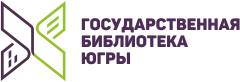16 яростных читателей на связи: рецензия на роман-трилогию Константина Симонова «Живые и мертвые»
Продолжаем рассказывать о прочитанном!
Сегодня Никита Петрушин делится впечатлениями о романе-трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые».
Приятного чтения!
Книжный отзыв от ведущего библиотекаря отдела краеведческой литературы и библиографии Никиты Петрушина.
В 2025 году – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 110 лет со дня рождения Константина Симонова. Лучшего времени, чтобы познакомиться с одним из главных романов о самых трагичных страницах истории нашей страны, сложно представить.
Рецензия будет объемной, потому – без долгих предисловий.
Первая книга романа-трилогии, одноименная с ним, рассказывает о начале Великой Отечественной войны и контрнаступлении под Москвой.
В Могилёве, вокруг которого уже идут бои, оказывается корреспондент Иван Синцов. Первая половина книги посвящена его попыткам осознать ситуацию, адаптироваться к ней и решить, что делать дальше. Попутно он познакомится с комбригом Федором Серпилиным и военврачом Таней Овсянниковой, переживет окружение, плен, ранения и – не менее опасное в военное время – потерю документов. Но к Москве подойдет уже далеко не «маленьким человеком».
Поразительно, насколько светлым может быть произведение о мрачнейшем 1941 годе! За каждым трагическим событием следует спокойная, а то и веселая сцена. Причем она не превращает драму в фарс, а лишь подчеркивает, что в любых, даже самых напряженных условиях есть место улыбке.
И печали, потому что веселье может закончиться внезапно и трагично. Один герой, оставшийся на передовой, выйдет из боя невредимым, а другой, отправившийся в тыл по делам, будет смертельно ранен пулеметной очередью с немецкого мотоцикла.
Или же Симонов напишет нечто вроде: «Никто из них еще не знал, что вынужденная остановка… в сущности, уже разделила их всех, или почти всех, на живых и мертвых». В этот момент ты понимаешь, что уже вот-вот, буквально на следующей странице, такие приятные тебе люди начнут погибать.
Переходы от миру к войне происходят зачастую внезапно, но естественно. Любой спокойный эпизод может прерваться сценой сражения, обстрела или бомбардировки, а героям придется немедленно реагировать. Такая манера повествования невероятно увлекает и дарит уйму противоположных эмоций: в рамках одной главы можно улыбнуться, посмеяться, встревожиться, погрустить, а затем снова улыбнуться – с облегчением, что кошмар закончен, любимые герои все еще живы, а значит, их борьба еще не окончена.
Это непривычно. В произведениях о войне авторы обычно нагнетают обстановку постепенно, подготавливают читателя, что скоро будет напряженный эпизод. А у Симонова трагедия может разразиться в любой момент. Однако хорошие события или даже просто новости все равно перекроют негатив. Тем первая книга удивительна и прекрасна.
Исключением становится лишь один эпизод – бой за высоту, где располагался недостроенный кирпичный завод. Начавшееся с катастрофы, продолжившееся дуэлью пулеметного расчета Синцова с танком и закончившееся по сути психологическим разгромом врага сражение описано опустошающе, нервирующе, а с какого-то момента хладнокровно и методично.
Мгновенная гибель почти всей роты от вражеского снаряда будто сопровождается абсолютной тишиной: выживший под обломками командир приходит в себя и пытается откопать своих сослуживцев. Но вот звучит пулеметная очередь – и он понимает, что не все еще кончено.
Этот эпизод останется мрачным, несмотря на победу: слишком дорога оказалась ее цена. Сражение местного значения Симонов подал совершенно незабываемо.
И именно после боя за кирпичный завод приходит озарение: ранее книга казалась позитивной лишь из-за точки зрения Синцова на войну. Он просто не мог полностью осознать, что на самом деле происходит вокруг, не мог найти себе места, был этаким перекати-поле. Лишь абсолютно апокалиптическое боевое крещение позволило ему понять, кто он есть теперь.
«Война шла своим чередом. Кончался еще один день ее».
Ближе к концу книги все упорядочивается и более-менее налаживается. 7 ноября 1941 года в Москве состоится знаменитый парад, с которого солдаты и техника уйдут прямиком на фронт. Война становится работой, сжатая до предела пружина Красной армии начинает распрямляться.
Первая книга «Живые и мертвые» заканчивается пусть и не на мажорной ноте, но сквозь тьму первых месяцев войны наконец пробивается лучик света.
Проходит год. Лучик света погас, будто его и не было.
«…Война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом; она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях, и с хриплым „ура‟, с матерщиной, с шепотом „мама‟, проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном, растоптанном снегу».
Вторая книга «Солдатами не рождаются» начинается в новогоднюю ночь 1943 года, незадолго до штурма немецких позиций под Сталинградом. Враг окружен, но капитулировать пока не собирается. Впрочем, все понимают: скоро произойдет то, что историки назовут переломным моментом Великой Отечественной войны.
Однако не стоит ждать описания боев: в этот раз повествование о психологии людей на войне, о жизни в тылу и на фронте. Если «Живых и мертвых» можно даже назвать авантюрно-военным романом, то «Солдатами не рождаются» – роман бытописательный, наполненный необычными, специфическими деталями. Например, Симонов упоминает телеграфные столбы, тонкие посередине и нормальной толщины сверху и снизу. Почему так? Это солдаты обстругивали древесину, буквально по несколько щепок, чтобы развести огонь. Потому что все остальное горящее – плетни, заборы, солома – уже давно сожжено.
Во второй книге автор полностью раскрывает своих главных героев: теперь уже генерала Федора Серпилина с печальной историей жизни и сложными отношениями с приемным сыном; милейшую, но при необходимости очень суровую «маленькую докторшу» Таню Овсянникову; окончательно трансформировавшегося в военного человека комбата Синцова. Они тяготятся мирной жизни и принимают войну как часть своего бытия, как тяжелую, но необходимую работу. Впрочем, есть и другие: спекулянты с ворованным сахаром, врач, прячущийся от фронта за юбкой нелюбимой жены, карьерист Люсин, ради своих хотелок способный погубить нескольких человек сразу…
В «Солдатами не рождаются» проявляется интересная особенность романа-трилогии: если персонаж поименован и на момент повествования жив, значит, однажды он наверняка появится вновь.
Например, случайно встреченный на дороге Серпилиным командир оказывается одним из значимых героев второй книги Павлом Артемьевым. Тот в школьные годы был влюблен в Надю, будущую жену генерал-лейтенанта Козырева, который в начале войны погибает, перед этим своей некомпетентностью вызвав уничтожение всех подконтрольных ему самолетов. Смертельно раненый после боя, он подстреливает корреспондента Ивана Синцова, по ошибке приняв его за фашиста. Сам Синцов, шурин Артемьева, несколько месяцев спустя на своих плечах выносит раненую Таню Овсянникову в безопасное место. Оттуда она попадает к партизанам, где знакомится с женой Ивана Машей, которая позже…
А вот тут я остановлюсь, потому что судьбы героев складываются совершенно неожиданным образом.
С Таней, кстати, связан самый впечатляющий момент второй книги – посещение концлагеря под Сталинградом. Мрачнейший эпизод. Даже кратко рассказывать о нем не буду: его нужно прочитать самостоятельно. Это главы 28–30, самая жестокая из них – 29-я.
«Она шла по людям, шла по тому, что было раньше людьми. И каждый из них служил в какой-то части, и был откуда-то родом, и писал когда-то письма домой. И никто из них еще не числился в списках погибших, и, значит, каждого еще ждали. А они лежали здесь, вдолбленные в снег и лед, и никто никогда не узнает о них – кто из них кто! Потому что уже нет и не будет никакой возможности узнать это».
Концлагерный кошмар Симонов старается закончить на высокой ноте:
«Девушки, девушки из банно-прачечного! <…> …Не было и не могло быть на целом свете в эти сутки лучше людей, чем вы, и не было рук добрей и небрезгливей, чем ваши, и не было стараний святей и чище, чем ваши, – помочь человеку снова сделаться человеком!»
Однако этот светлый момент никак не меняет настроения: «Солдатами не рождаются» – книга предельно меланхоличная. Радость грандиозной победы омрачается жертвами в последние минуты боя, рождение одной семьи – гибелью другой. Подобный контраст в книге повсеместен.
Но свет побед рассеивает тьму. Красная армия выбивает врага далеко на запад, разрывает кольцо блокады Ленинграда, освобождает Крым. Люди обретают уверенность в своем военном превосходстве над немцами.
Третья книга «Последнее лето», по сути, отражение первой. Тогда движение шло от Белоруссии к столице, теперь так же, только столица другая – Берлин. Тогда в Москве были разбитые стекла и закрытые мешками с песком витрины магазинов, а теперь все целое, вымытое, с толпящимися людьми. Но тогда живые и здоровые герои теперь искалечены: кто-то лишился конечности, кто-то ребенка, а кто-то не может представить свое мирное будущее, ведь война заместила все.
В «Последнем лете» снова меняется ракурс – на интеллектуальную штабную работу, посвященную операции «Багратион». Акцент теперь делается не на конкретных людях, а на армиях, освобождающих целые города. Потому детали здесь уже не бытовые, а тактические и стратегические. Почему танкист в шлеме заслуживает выволочки? Всегда ли убийство сослуживца по неосторожности следует наказывать расстрелом? Что за диалектика «Огнем и колесами»?
Интересны размышления Симонова о войне и ценности человеческой жизни, чем-то они напоминают толстовские из «Войны и мира»:
«„Слишком большие потери‟ – говорим, а „слишком малые‟ – разве скажешь? Про какую людскую жизнь язык повернется сказать, что она слишком малая потеря? Как ни мало потеряем, а кто-то все же умрет… Когда возмещаем убыль, заменяем, перемещаем, – говорим и себе и другим, что незаменимых нет. Верно, нет – все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека».
Снова меняется настроение: теперь оно спокойное, с нотками грусти. Словно у человека, перенесшего тяжелую болезнь: он знает, что дальше будет лучше, но так хорошо, как раньше, ему не будет уже никогда.
Эта книга – своего рода эпилог. Здесь раскрывается последний «слой» войны: в «Живых и мертвых» был окопный, фронтовой, в «Солдатами не рождаются» – бытовой, тыловой, а в «Последнем лете» – штабной. Будущее персонажей предопределяется: кто-то сделает успешную военную карьеру, кому-то предстоит разобраться в военных казусах личной жизни, а кое-кто обретет вечный покой от случайного осколка.
Исход войны теперь очевиден всем героям. А нам – известен.
Теперь мне легко ответить на вопрос: «Что почитать о Великой Отечественной войне?» Почему? Потому что роман-трилогия Константина Симонова «Живые и мертвые» универсален. Здесь есть и человеческие трагедии, и боевые действия с разных ракурсов, и бытовые очерки. Автор задает вопросы, на которые непросто найти ответы, размышляет, анализирует – и подает результаты доступно каждому. Персонажей книги совестно называть «персонажами» – это живые люди со своим прошлым и настоящим, недостатками и достоинствами. Здесь не смакуется жестокость, не пропагандируется ненависть, не выставляется на первый план политика.
«Живые и мертвые» – великая книга о человечности.
Книги можно взять почитать в отделе обслуживания, 1 этаж.